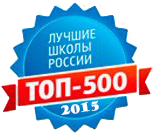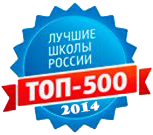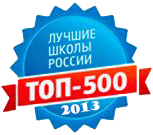Задать вопрос
Все контакты
ИСТОРИЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА (по воспоминаниям Олиферко Е.А.)
Память о войне. Она не стирается, не тускнеет с годами. Потому, наверное, что это не только память отдельных людей или одного поколения, это память народа, навечно врубленная в его историю, в его настоящее и будущее. И каждое новое воспоминание о войне - лишнее тому подтверждение.
20 июня 2006 года я была на экскурсии в музее «Разорванное кольцо» в Санкт-Петербурге. Мы стояли у витрины, в которой лежал маленький раскрытый блокнотик «Дневник Тани Савичевой» Рассказ о девочке, на глазах у которой погибли все ее родственники, поразил меня до глубины души. Придя домой, мне захотелось поделиться услышанным. Я подошла к дедушке и спросила у него знает ли он что-нибудь о Тане Савичевой. И дед, как-то нехотя ответил, что он и сам пережил все эти блокадные годы. Я ничего не понимала, ведь никогда раньше дед не рассказывал мне об этом. Я не понимала почему.
Но все же на следующий день дед сам подошел и стал мне рассказывать про те уже далекие блокадные годы. Вот почти все, что я запомнила из его рассказа.
Дед родился 3 декабря 1936 года в городе Ленинграде. На момент блокады ему было всего 6, но меня поразило то, что он почти все помнит, как будто это было вчера.
Дедушка с семьей жили в самом центре города, у Пяти углов, на Загородном проспекте, в доме номер 9, в квартире № 50, которая располагалась на четвертом этаже пятиэтажного дома. Семья у него была большая. В трехкомнатной квартире жили дед с его мамой, Марией Афанасьевной, и папой, Алексеем Георгиевичем, маминой сестрой, Анной Афанасьевной, с мужем, Михаилом Спиридовичем, и двумя детьми, Ириной и Сережей, брат мамин, Михаил Афанасьевич, с женой, Клавдией, и сыном, Юрием, и дедушка, Афанасий Иванович, с бабушкой, Анна Моисеевна, — мамины родители. Дедушкин папа, мой прадедушка учился в военной академии, его мама работала на ЛОМЗе.
Через некоторое время после начала блокады, мама отдала Деда в детский садик, чтобы он хоть немного ел. В детском садике было много детей. Больше там было годовалых детей, кому по два годика, по три. Хоть там и было много детей, дедушке там нравилось только из-за того, что его там хотя бы кормили нормальной едой, хотя, что можно понимать под словом «нормальная еда»? Давали картошку и суп-баланду. Дедушке там не нравилось, он каждый вечер чертил на стене крестики, считая дни, когда придет его мама и заберет его отсюда. А жили дети в садике целую неделю, до субботы.
В редкие будние дни, когда дедушкина мама работала, а он по какой-то причине оставался дома, они с бабушкой ходили гулять. Бродили по узким улочкам, смотрели на Неву. Конечно, у дедушки, да и у всех людей, был огромный страх гулять по улицам, когда на тебя может упасть бомба, или еще что-нибудь; ощущение войны присутствовало на лицах всех людей, да и на его тоже.
По словам дедушки, с приходом октября началось еще одно страшное время — время голода. Каждый день его мама приходила с работы на 3 часа позже и приносила всем хлебушек. Дедушке всегда отрезали чуть больше, чем остальным. Это был его завтрак, обед и ужин.
Однажды, по словам дедушки, где-то в конце ноября 1941, когда его мама была на работе , а бабушка с дедушкой заснули, он осторожно оделся и попытался открыть дверь, но не смог этого сделать, так как вся лестница была полна умершими соседями деда. Они лежали, как он говорит, кто с сумками, кто с ведрами. Его мама вечером сказала ему. что они спали, но повзрослев он понял, что они умирали, так и не дойдя до своей квартиры.
Страшно деду было в городе еще и потому, что в одно и тоже время каждый день начинались артобстрелы. Артиллерийские налеты часто проходили одновременно с воздушными бомбардировками и продолжались несколько часов. Кругом все дрожало, рушились дома, возникало много пожаров, но все люди, по словам мамы, находились в готовности ко всяким неожиданностям. У подъездов домов, на крышах несли вахту дежурные группы самозащиты.
Только одна вещь приносила радость, как дедушке, так и всем ленинградцам. Это было радио. Из него каждый день доносилась музыка, и поэтому все верили, что однажды наступит день, и все это закончится.
Холода начались рано, и вся семья дедушки переехала в большую комнату, в середине которой стояла печка - буржуйка. На ней готовили, от нее и грелись.
В декабре, когда смеркалось рано, стало трудно ходить за хлебом. В семье дедушке были только 2 пары валенок. Одни — его мамы, в которых она ходила на работу, другие — общие.
Наступление Нового 1942 года дедушкина семья отметила праздничным ужином. Им выдали по карточкам настоящие шпроты, пшенную крупу, вино и конфеты из дуранды с орехами. Елки у них в доме не было, зато она была в садике, большая и красивая.
Карточки отоваривали крупой и мукой. На детские карточки выдавали жир под названием «лярд» и конфетки «бим-бом».
Но эта прибавка не спасла одного человека из семьи дедушки. На его глазах умер от голода его дед. У него был настолько истощен организм, что его уже просто перестали кормить. А чем мог помочь маленький кусочек хлеба организму, у которого вместо тела одни только кости.
Вся семья уже знала, что конец близко, но когда это случилось, долго плакали и не верили, что вот он — конец. Это была первая блокадная смерть в семье. Смерть не от бомбежек, а от голода.
С появлением тепла все почувствовали себя бодрее, поверили, что самое страшное позади. Постепенно стало восстанавливаться все то, чего были лишены зимой. Пошли трамваи, появилось электричество, был восстановлен водопровод. Появилась трава и зелень, рацион всех блокадников, и в частности семьи дедушки, расширился. Стали собирать едва появившуюся крапиву, варили из нее щи. Как только оттаяла земля, стали разбивать огороды везде, где только было можно. В эти годы, как вспоминает дед, во всех скверах была перекопана земля, сделаны грядки, на которых сеяли салат, сажали картошку и другие овощи.
Дедушка с семьей эвакуировались на катере через Ладогу в августе 1942 года. Из этого он почти ничего не помнит. Только то, что они пришли с его мамой и бабушкой на станцию, он сел на лавку и вдруг под ногами пол задрожал, и берег стал удаляться. Была погода ветренная, и были большие волны, и дедушку укачало. Всю дорогу мама держала его над поручнем.
Затем они ехали на автобусе по песчаной дороге и лесом до железнодорожной станции. Конечно, здесь уже было не так как в Ленинграде, это же была «Большая земля». Ленинград был позади.
Потом они ехали дачным поездом. Несколько раз выбегали, потому что их бомбили.
И дальше в теплушках проехали через пол страны. Теплушки — это двухэтажные нары, в середине которых стоит печка-буржуйка. Бабушка у них кашеварила, а дед с его мамой на остановках в больших городах бежали на базар менять тряпки на что-то съестное. Конечно, что это были за «тряпки»? Никому они не нужны, но его маме все-таки удавалось их обменять.
В Красноярске они поселились в доме Евдокии Ивановны, второй бабушки деда. Здесь уже не было такого голода, и его ленинградская бабушка, поняв, что ее дочери и внуку больше опасность не угрожает, сама тихо угасла. Настолько был истощен ее организм, что ей уже ничего помочь не могло. Эта была вторая блокадная жертва в семье дедушки и в моей семье.
Дед запомнил еще новый год 1942–1943 года в Красноярске. Он до сих пор вспоминает вкус хлеба с тоненькой пластинкой масла. Для него, пережившего самый страшный голод блокады, этот кусочек показался слаще самого вкусного в мире пирожного.
Теперь я понимаю значение вечного огня около музея «Разорванное кольцо». Он горит всегда. Горит и днем, и ночью. И в проливной дождь, и в лютый мороз. Горит, как боль в материнском сердце, не знающем, что такое забвение. Будто вспыхнул он от самого первого залпа той великой войны, которая опалила каждого из нас ярым огнем ненависти к врагу и ярким пламенем веры в Победу. Теперь он горит вечно и в горении своем улетает отсюда в небо нашей планеты.
Автор: Макарова Анна, 10ЛГ класс
Научный руководитель — Деревянко Алла Викторовна